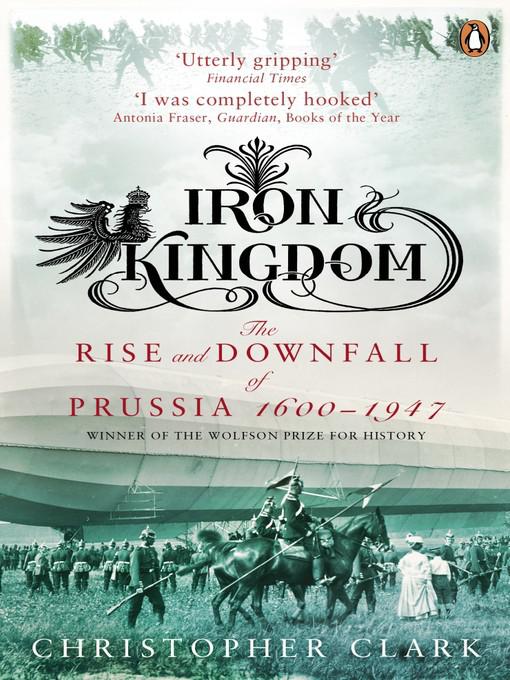кабинета, приставленных непосредственно к его персоне.
Таким образом, политический процесс все больше и больше сосредотачивался вокруг небольшой команды секретарей, которые контролировали доступ к королю, следили за его перепиской, держали его в курсе событий и консультировали по вопросам политики. В то время как секретари путешествовали вместе с монархом, министры обычно оставались в Берлине. В то время как министры, как правило, были аристократическими вельможами, такими как Карл Абрахам фрайхерр фон Цедлиц (министр, отвечавший за вопросы образования), секретари в основном были простолюдинами. Характерным примером был затворник, но обладавший огромным влиянием Август Фридрих Эйхель, сын сержанта прусской армии, который обычно приступал к работе в четыре часа утра. При Фридрихе Вильгельме I ответственность и влияние были связаны с функциями человека в административной системе; при Фридрихе, напротив, близость к государю стала решающим фактором, определяющим власть и влияние.
Парадоксально, но такая концентрация власти и ответственности в руках короля свела на нет централизаторский импульс реформ Фридриха Вильгельма I. Общаясь напрямую с чиновниками палат в провинциях, Фридрих подорвал авторитет Генеральной директории, которая должна была выступать в качестве надзорного органа, контролирующего различные провинциальные ведомства. Во многих случаях Фридрих даже отдавал приказы провинциальным палатам, не ставя в известность центральную администрацию, тем самым усиливая власть провинциальных администраторов, смещая власть из центра и ослабляя связующие нити территориальной государственной структуры.139
Фредерик не видел причин сомневаться в эффективности этой высоко персонализированной системы. Как он указал в "Политическом завещании" 1752 года, "в таком государстве, как это, необходимо, чтобы принц сам вел свои дела, потому что если он умен, то преследует только интересы государства, тогда как министр всегда руководствуется скрытыми мотивами, затрагивающими его собственные интересы...".140 Другими словами, интересы государства и интересы монарха были просто идентичны, чего нельзя сказать о любом другом живом человеке. Загвоздка в этой схеме заключалась в условной оговорке "если он умен". Фредерицианская система хорошо работала, когда у руля стоял неутомимый и дальновидный Фредерик, применявший свой быстрый и емкий ум, не говоря уже о смелости и решительности, к проблемам, которые попадали к нему на стол. Но что, если бы король не был гениальным государственным деятелем? Что, если бы ему было трудно решать дилеммы? Что, если бы он был нерешительным и не любил рисковать? Что, если бы он был обычным человеком? Как бы эта система функционировала под давлением, если бы у руля стоял такой монарх? Фредерик, как мы помним, был последним из череды аномально одаренных правителей Гогенцоллернов. Таких, как он, больше не будет в истории династии Гогенцоллернов. Без дисциплины и целенаправленности властной фигуры в центре существовала опасность того, что фридериковская система распадется на враждующие фракции, поскольку министры и кабинетные секретари будут соперничать за контроль над своими пересекающимися юрисдикциями.
8. Осмельтесь узнать!
КОНВЕРСИЯ
Прусское просвещение было связано с беседой. Это был критический, уважительный, открытый диалог между свободными и автономными субъектами. Беседа была важна, поскольку позволяла отточить и усовершенствовать суждения. В знаменитом эссе о природе просвещения кёнигсбергский философ Иммануил Кант заявил, что
Просветление означает выход человека из-под опеки, навязанной ему самим себе. Под опекой понимается неспособность пользоваться собственным разумом без чужого руководства. Эта опека является самонавязанной, если ее причина кроется не в интеллектуальной недостаточности, а в отсутствии воли и мужества [...]. Осмельтесь узнать! [Имейте мужество использовать свой собственный разум! Это девиз эпохи Просвещения.1
Если читать этот отрывок изолированно, то просветление покажется одиноким делом, заключенным в борьбе индивидуального сознания за осмысление мира. Но позже в том же эссе Кант замечает, что этот процесс самоосвобождения через разум имеет неостановимую социальную динамику.
Возможно, что общество может просвещать само себя; более того, если его свобода не ограничена, это практически неизбежно. Ведь всегда найдется несколько человек, способных думать самостоятельно, несмотря на авторитеты, претендующие на осуществление этого права от их имени, и которые, как только сбросят с себя ярмо опеки, распространят вокруг себя дух разумной оценки собственной ценности и обязанности каждого человека думать за себя.2
В распространении в обществе этого духа критической, уверенной независимости беседы играли незаменимую роль. Она процветала в клубах и обществах, которые распространялись в прусских землях - и шире, в немецких государствах - во второй половине восемнадцатого века. Уставы "Немецких обществ" - надтерриториального предприятия, в сеть которого входило общество, основанное в Кенигсберге в 1741 году, - четко определяли формальные условия для плодотворного общения между членами. Во время обсуждения, которое следовало за чтением или лекциями, члены общества должны были избегать произвольных или непродуманных комментариев. Критика должна быть структурированной и касаться стиля, метода и содержания лекции. Они должны использовать, по выражению Канта, "осторожный язык разума". Отступления и перебивания были строго запрещены. В конечном итоге всем участникам гарантируется право высказаться, но они должны дождаться своей очереди и сделать свои комментарии максимально краткими. Сатирические или насмешливые замечания, а также игра слов, наводящая на размышления, были недопустимы.3
Такую же заботу о цивилизованности мы находим и у масонов, чье движение к концу XVIII века насчитывало от 250 до 300 немецких лож с 15-18 000 членов. Здесь также существовали предписания избегать неумеренных речей, фривольных или вульгарных комментариев и обсуждения тем (например, религии), которые могли бы вызвать раскол среди братьев.4 С современной точки зрения все это может показаться удушающе чопорным, но цель таких правил и норм была достаточно серьезной. Они были призваны обеспечить, чтобы в дискуссии важен был не человек, а проблема, чтобы страсти личных отношений и местной политики оставались позади, когда члены собрания вступали в дискуссию. Искусству вежливых публичных дебатов еще предстояло научиться; эти уставы были чертежами новой коммуникативной технологии.
Цивилизованность была важна еще и потому, что помогала сгладить асимметрию статуса, которая в противном случае грозила помешать дискуссии. Масонство не было, как утверждает один историк движения, "организацией зарождающегося немецкого среднего класса".5 Оно привлекало смешанную элиту, в которую почти в равной степени входили представители дворянства и образованные или знатные простолюдины. Хотя некоторые немецкие ложи начинали свою деятельность, открывая двери исключительно для одной или другой из этих двух групп, большинство из них вскоре объединились. В таком смешанном обществе соблюдение прозрачных и эгалитарных правил взаимодействия было необходимо, чтобы статусные различия не помешали дискуссии с самого начала.
Разговор, который питал прусское просвещение, происходил и в печати. Одной из отличительных черт периодической литературы этой эпохи был ее дискурсивный, диалогический характер. Например, многие статьи, печатавшиеся в "Берлинском ежемесячнике" (Berlinische Monatsschrift), самом известном печатном органе немецкого позднего просветительства, были письмами в редакцию от представителей общественности. Читателям также предлагались обширные рецензии на недавние публикации, а иногда и пространные ответы